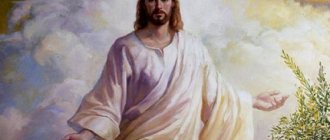Библейские вопросы и ответы
Опубликовано 30.05.2013

Как вы думаете, могли Адам и Ева знать, что змей-искуситель их обманет и они совершат грех? Когда Адам был в саду один, еще без Евы, наедине с Богом, почему Бог не предупредил его о змее и о возможном обмане? Я понимаю, почему вообще был змей, ведь все мы свободные и нам надо сделать свой собственный выбор. Когда Адам и Ева вообще это поняли? Если бы я был на их месте, мне реально было бы сложно принять, что съесть запретный плод — означает пойти против Бога. Их раньше ведь никто не обманывал. Или может у них были разговоры с Богом, о которых ничего не написано? Спасибо заранее.
Ответ:
Христианство
Ветхозаветное предание о «человеке» (Адаме) и «жене» (Еве) в раю, вкусивших запретный плод (основной мотив библейского сюжета) было истолковано христианским богословием[7] как причина «грехопадения» или т. н. первородного греха. И католическая, и православная традиции сходятся в том, что «первородный грех» исказил «исконную природу» человека, созданного вначале невинным и безгрешным, его «богоподобие»; спасение от его последствий видят в акте крещения, устанавливающем причастность крещеного к Иисусу Христу («новому Адаму»), искупившему своей смертью «первородный грех» («первого Адама»). В христианстве библейское предание, изображающее в качестве «прельстившегося» не «мужа», а «жену», используется для подчеркивания особой «греховности» женщины и обоснования её подчиненного положения[8].
В соответствии с христианским пониманием, изгнание из рая ознаменовало начало, а распятие Иисуса окончание пути к спасению человечества.
Кто обманул Адама змей или Ева?
Ева и Адам знали о последствиях запрета вкушать плоды с дерева познания добра и зла. Но искушение змея оказалось сильнее запрета, Ева сорвала и попробовала запретный плод сама и дала мужу, он тоже вкусил его, несмотря на запрет и предупреждение о последующей неминуемой гибели (Бытие. Глава 3). Змей подтолкнул к совершению греха, но плоды вкусили они по своей воле, зная, что тем самым ослушаются отца. Основная мысли дерева добра и зла ведет к тому, что добро — это послушание, зло — непослушание, Адам знал о последствиях, но все равно принял плод. Ева преподнесла плод так красочно, как описал его змей, он внушил что плод обладает силой, способной приравнять к Богу. Адам добровольно принял из рук жены плод, тем самым разделив с ней греховные помыслы.
Искусство
Богословские концепции, наслоившиеся в течение многих веков на библейском предании, нашли выражение в общественной мысли, в изобразительном искусстве и литературе.
Жизнь Адама и Евы составила содержание апокрифического «Жития» (ошибочно названо также Апокалипсисом Моисея), созданного на основе раннего агадического материала в Иудее во 2-й половине I в. до н. э.-1-й половине I в. н. э. и имеющего несколько версий. Христианскими являются эфиопский и арабский переводы, вероятно, непосредственно с еврейского (утраченного) подлинника. Рано появившаяся греческая версия была уже в IV в. переведена на латинский язык и затем на многие языки Западной Европы. Из средневековых армянских версий, близко примыкающих к эфиопскому и арабскому изводам, большую ценность представляет «Книга об Адаме» епископа Аракела Сюнеци на армянском языке (ок. 1400). Содержание «Жития Адама и Евы» сводится к следующему. Адам и Ева после изгнания из рая каются, дав обет стоять порознь 40 (или 37) дней в реках Тигр и/или Иордан (они и в раю обитали раздельно: Адам — среди животных-самцов, а Ева — среди самок); сатана вновь обольщает Еву и тем самым мешает покаянию; рождение Каина и Авеля, смерть последнего; рождение Сифа (Шет) и других детей; Адаму предсказана смерть, он заболевает; Ева посылает Сифа, их сына, за «маслом жизни», которое течет из «древа милосердия», растущего в раю, но его достать невозможно, и Адам умирает на 930-м году жизни (70 лет он, по еврейской легенде, «уступил» Давиду). Ангелы молят бога об отпущение греха Адама. Он прощён, ангелы просят дозволения похоронить трупы Адама и Авеля в раю. Через шесть дней после Адама умирает и Ева, успев завещать своим детям высечь на камне житие первых людей. Адаму и Еве дано заверение в том, что грядущий «сын божий» (Иисус Христос) их спасет.
В средние века предание, воспринятое из Библии и из апокрифического «Жития Адама и Евы», подверглось многочисленным переделкам в прозе, эпической поэзии, а также в драматургии. Постепенно в образах Адама и Евы (после их изгнания) выявились крестьянские черты, и сильнее зазвучал мотив их трудолюбия, а также идея исконного равенства людей, начавших жизнь на земле как одно сословие земледельцев. На фоне крестьянских войн и Реформации (XVI в.) еще более обострилась проблематика причин фактического неравенства потомков Адама и Евы и возник вопрос о естественности, то есть божественности, такого правопорядка. Для ответа привлекался другой, исконно не связанный с Адамом и Евой, сюжет о Каине и Авеле. В этом братоубийстве находили причину последующей междоусобицы, вообще конфликтов между людьми. В целом же «корень зла» стали видеть в дьяволе (в образе змея), как извечном сопернике бога (между тем по Библии змей может быть воспринят и как друг человека, заведомо обездоленного богом-творцом). Трагический конфликт получал «оптимистическое» решение: дьявол будет наказан. Выдающиеся обработки сюжета в XVI в. принадлежали Г. Саксу («Трагедия о сотворении Адама и изгнании его из рая»), И. Штрикеру («Игрище о жалком падении Адама и Евы»), Б. Крюгеру («Действо о начале и конце мира»), Д. Андреини (трагедия «Адам»), Лопе де Beга («Сотворение мира и первая вина человека»), использовавшего также предание о Каине и Авеле и о гибели первого братоубийцы; Й. ван ден Вонделу («Адам в изгнании»), у которого действо обращено на мотивацию злобы «искусителя» (Люцифера), и, наконец, Дж. Мильтону («Потерянный рай»), усилившему заложенную в библейском предании идею о свободе человеческой личности, а следовательно, добровольности греха и потому необходимости ответственности человека за его поступки. Эпос Мильтона лег в основу либретто оратории Й. Гайдна («Сотворение мира»), а затем оперы А. Г. Рубинштейна («Потерянный рай»).
Библейское сказание было по-новому осмыслено в XIX в.: изгнание из рая стало изображаться как поворотный, критический момент в истории человечества на пути его эволюции от животного к высшему состоянию. В драме И. Мадача («Трагедия человека») сатана демонстрирует Адаму будущее рода человеческого, после чего Адам хочет кончить жизнь самоубийством, однако Ева, воплощение материнства, удерживает мужа от такого поступка и прогоняет искусителя-сатану. В начале XX в. «грехопадение» проблематизируется (драма «Адам» А. Наделя, роман «Адам и Ева» Дж. Эрскина) как богоборческий конфликт между интеллектом (духом) и страстью (чувством) с тенденцией приоритета чувственного начала. Учащаются опыты сатирического изложения сюжета (напр., «Дневник Адама» Марка Твена). Богословские и историко-философские толкования предания пародировали А. Франс (роман «Остров пингвинов»), Б. Шоу (пятичастная драма «Назад к Мафусаилу»). Сюжет об Адаме и Еве в раю входит в качестве составной части во многие произведения о сотворении мира (пьеса И. В. Штока «Божественная комедия» и др.). Библейское предание об Адаме и Еве в раю оставило заметный след в мировом фольклоре (изустные записи сюжета в поэтической, прозаической версиях и разных жанрах учтены в справочниках, в частности О. Дэнгардта).
Широко представлен сюжет в изобразительном искусстве. В средние века изображение обнажённого мужского и женского тела было связано с Адамом и Евой. В качестве плода запретного дерева сперва изображали гранат, позднее — яблоко. Художники подчас следовали установившейся типологии, иногда же сознательно стремились к её преодолению. В «портрете» Евы сказывалось влияние античных образов богинь. Ближе к сюжету примыкают те картины с изображением Евы (без Адама), где живописцы стремились выразить настроение и характер библейского персонажа. В этой связи привлекаются змей и дерево. Подразумевается словесный диалог, но изображается только реакция Евы (позой и мимикой). Змей иногда приобретает мужские признаки (иногда имеет лицо мужчины-искусителя). В зависимости от понимания сюжета Ева изображается «небесной» или «земной», то есть доступной или недоступной искушению, часто (в соответствии с текстом предания) более активной: стоящей с распростёртой рукой, улыбающейся, тогда как лицо пассивно сидящего Адама оставалось безмятежным. В XVIII в. Ева обычно наделялась кокетливой позой и изображалась воплощением любви. К концу XIX в. учащаются картины, на которых Адама приближали к Еве; они обнимаются, находясь в состоянии порыва доселе неизведанных ими страстей. На некоторых картинах Ева наделена «змеиными» чертами, она стоит рядом со змеем, обвивающим древо познания, и оба как бы воплощают один образ дьявола. Частый сюжет — «изгнание из рая»: людская пара спускается на неуютную землю.
Примеры в истории, когда человека искушал “змей”
Адам и Ева — первые кто поддался на искушение, но не единственные. История знает множество примеров, искушения человека “змеем”, но не всегда «змею» удавались его помыслы. Самый яркий пример поражения Дьявола — искушение Христа в 40-дневный пост после крещения, в пустыне. Дьявол пытался соблазнить Христа тремя обольщениями (голодом, гордыней, верой), как любого человека. Надеялся что двойственность натуры Христа не выдержит натиска и соблазна. Христос не поддался на искушения, стойко выдержал соблазны, на все уловки находил мудрые ответы. Дьявол прекратил тщетные попытки. Такой яркий пример показывает, что какими бы сладкими не были речи дьявола, нужно свято верить в Господа и в свои силы, не поддаваться на искушения.


Змей-искуситель в современном обличье
«Змей искуситель» не оставил своих попыток склонять человечество к греховным мыслям. Ежедневно человек стоит перед выбором в различных ситуациях, Дьявол постоянно старается искушать людей совершить грех. Господь дал людям свободу выбора, первородным грехом показал последствия того, что непослушание будет наказано. Человечество не вняло ему, не думает о последствиях содеянного. Человек, искушается и обольщается собственной похотью, похоть рождает грех, а грех рождает смерть.
Важно уметь устоять перед соблазнами и “не убить” в себе веру в Бога.
История грехопадения
Самой важной нитью, которая проходит через бибилейскую историю Адама и Евы, считается их грехопадение. Именно непослушание и соблазн привели к тому, что Господь достаточно серьезно наказал их. Нет никаких точных данных о том, сколько лет проведи в данном саду первые люди. Некоторые источники говорят о том, что это было около 7 лет. Там они были чисты и невинны.
Лучшая статья для Вас, переходите: Святой пророк Божий Илия: житие, молитвы, акафист
Согласно писанию, змей выступал искусителем Евы, который предлагал ей попробовать яблоко из запретного дерева. Она долгое время отказывалась, говоря, что Бог запретил им это делать. А те, кто Его ослушаются, непременно ждет смерть. Но змей говорил о том, что все это выдумки и вместо смерти их ждет прозрение о Добре и Зле и сами станут Богами.
Известно о грехопадении Адама и Евы из Библия, где указано о том, что она все-таки поддалась на его мольбы. Кроме того, что она сама вкусила плод, так еще и подвигла на это мужа.
Символизм змея
Почему именно его выбрали в качестве искусителя? Это достаточно важное животное в языческих верованиях. Им приписывали некие магические способности. Считалось, что когда они сбрасывают кожу, то перерождаются. Для еврейского народа он всегда был естественным врагом бога Яхве и противником единобожья.
Почему Ева поддалась искушению
Возможность сравнится со Всевышним, породило в душе представительницы слабого пола появление любопытства. Именно такие настроения и сподвигли ее к нарушению заповеди Божьей.
Лучшая статья для Вас, переходите: Пророчества пророка Малахии
Ева и Змей. Загадка Джоконды
Год назад в Лувре я долго стоял перед «Джокондой», пытаясь вобрать в себя все черты этого портрета-пейзажа и почувствовать мысль Леонардо. Почему такое гнетущее, страдальческое ощущение возникает от образа этой спокойной, улыбающейся женщины? Созданная в 1503 – 1505 гг., эта картина остается самой загадочной в истории искусства, и сколько высочайших профессионалов, не говоря уж о дилетантах, пытались подобрать к ней ключ! Постепенно я стал различать в ней тончайшую вариацию библейского сюжета — образ Евы, соблазненной Змеем и как будто вобравшей его очертания в себя, в извивы своей накидки, в изгибы своих глаз и губ. Ничего подобного я не нашел литературе о Леонардо, хотя некоторые интерпретации подтверждают верность моей догадки, которой рискну поделиться с читателем.


1.
Когда воспринимаешь Джоконду и окружающий ее ландшафт как единое целое, не может не поразить контур змея, который вырисовывается за ее спиной. Он наиболее четко выступает в очертаниях дороги, вьющейся за ее правым плечом, и продолжается в накидке, переброшенной через левое.
В лице самой Джоконды тоже проскальзывает нечто неуловимо змеиное, прежде всего в ее губах, изогнутых тонкой усмешкой. Тени от уголков губ усиливают это впечатление. Но даже больше этой прославленной «змеистой» улыбки Джоконды поражают ее удлиненные глаза, лишенные ресниц. Такая аномалия объяснима, если соотнести ее с физиогномической особенностью змей — их глаза ничем не защищены, хотя всегда остаются открытыми, даже во время сна. Недаром Сатана, восставший против Бога, принял облик змея. Немигающий, постоянно отверстый взор — выражение дерзости, которая пытается как бы пересилить Свет, созданный Богом в первый день творения, а значит, и самого Бога. Наличие бровей и ресниц, окаймляющих глаза, защищающих от яркого света, — своего рода знак смирения в человеческом лице.
Сочетание образов женщины и змеи, конечно, приводит на память библейский эпизод грехопадения. Вообще этот сюжет глубоко интересовал Леонардо, который посвятил ему свою первую, не дошедшую до нас картину «Адам и Ева». В своем романе «Воскресшие боги» Д. Мережковский устанавливает прямую связь между Джокондой и той Евой на первой картине Леонардо. Его ученик Джованни «эту же самую улыбку видел… у прародительницы Евы перед Древом Познания в первой картине учителя…» [1]
Конечно, в «Джоконде» нет сцены искушения, когда Сатана предстает перед Евой в обличии змея, иногда с человеческой головой, протягивающего ей запретный плод. На холсте Леонардо искушение позади, и мы видим Еву уже отмеченной печатью змея, вобравшей черты искусителя. Здесь нет трагедии, ужаса, драматической интриги, но нет и безмятежного рая. Мы видим мир после грехопадения, где Ева и Змей стали единым целым, и очертания Змея плавно переходят из пейзажа в линии ее губ и глаз, в накидку на плече, в извивы волос и складки одежды. Джоконда — это Змей в образе женщины и женщина, ставшая змеей.
Это цельное впечатление от картины выразилось одной фразой — ярким словесным мазком — у замечательного искусствоведа Абрама Эфроса, который писал в середине 1930-х гг.: «…музейный сторож, не отходящий ныне ни на шаг от картины, со времени её возвращения в Лувр после похищения 1911 г., сторожит не портрет супруги Франческе дель Джокондо, а изображение какого-то получеловеческого, полузмеиного существа, не то улыбающегося, не то хмурого, господствующего над охладевшим, голым, утесистым пространством, раскинувшимся за спиной». [2]
Впечатление передано у Эфроса очень точно, но остается не расшифрованным. Что это за странное, двойственное, «химерическое» существо предстает на картине? О Еве и Сатане у Эфроса не заходит и речи, хотя очевидно, что картина не может не соотноситься с библейским источником, сближающим женщину и змея. Выразительно описан и антураж: «охладевшее, голое, утесистое пространство». Очевидно, что и этот ландшафт должен быть соотнесен с Эдемом, где произошла встреча женщины и змея, определившая судьбы человечества. Именно это опустевшее райское место мы и созерцаем на картине Леонардо, где от всего живого остается только след змея, прочерченный в величественном, но скорбном пейзаже.
Культуролог Вячеслав Шевченко предложил оригинальную трактовку Моны Лизы: «Если всмотреться, пытаясь соединить фигуру с фоном, то кажется, будто передняя часть картины превращается в верхнюю (торс), а задняя – в нижнюю (тулово) части существа, в очертаниях коего просматривается подобие лежащего Сфинкса.»[3] К сожалению, такое толкование изобразительно никак не мотивируется, кроме того что «у Джоконды так поджаты руки». Но почему образ напоминает именно Сфинкса?
Гораздо определеннее очерчивается фигура змея.
Из-за левого плеча Джоконды выглядывает голова пресмыкающегося. Она дана в профиль, так что отчетливо виден один глаз, как раз над накидкой, переброшенной через плечо Джоконды, и сомкнутая пасть, примерно на четверть срезанная рамой картины. Очевидно, к этому исполинскому чудовищу, выступающему из пейзажа и вместе с тем образующему его передний план, относятся слова Библии: «проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт.3: 14-15). У этого странного силуэта нет другого, более ясного изобразительного наполнения, хотя вычленить пресмыкающееся из картины не так просто – оно может прикинуться аморфным очертанием скалы, камней. Середина этого тела заслонена фигурой Джоконды, но из-за ее правого плеча вытягивается хвост, принявший вид извилистой дороги. Это огромное пресмыкающееся лежит прямо за балюстрадой балкона, где сидит Джоконда.


Иллюстрация 2. Примерно так выглядит рептилия, чья голова выглядывает из-за левого плеча Джоконды, а хвост в виде дороги извивается за ее правым печом. Фото автора.
Слегка перекрученная накидка, наброшенная на плечо, тоже воспроизводит змеиный изгиб, который продолжается темными, вьющимися волосами, обрамляющими ее лицо и падающими на плечи. Змеиные колечки золотой вязью вьются и по вырезу платья. На рукавах — волнообразные складки, которые своей извилистостью и «взбитостью» вступают в контраст со спокойным положением рук. И этот же лукавый изгиб змеится в устах Джоконды, углубляясь тенями, которые падают на всю нижнюю половину ее лица, сгущаясь над верхней и под нижней губой и придавая им вид раздвоенного жала.
Стоит обратить внимание на темный кружок прямо у челюстей Змея (в нижнем правом углу картины). Точнее, полукружок, поскольку он обрезан рамкой. Похож на половинку плода, который надкусила Ева-Джоконда. Или она разделила его со Змеем? На некоторых картинах — например, у А. Дюрера — Змей сам приносит Еве плод в своей пасти.


А. Дюрер. Адам и Ева. Гравюра 1504


А. Дюрер. Адам и Ева. 1507
Напомним, что эти работы Дюрера созданы одновременно с «Джокондой» Леонардо (1503-1505).
2.
В Англии «Джоконда» стала известна в 1869 г. благодаря эссеисту и искусствоведу Уолтеру Патеру. Он писал: «Эта женщина старше, чем скалы, рядом с которыми она находится; подобно вампиру, она уже много раз умирала и познала тайны загробного мира, она погружалась в пучину моря и хранила воспоминание об этом. Вместе с восточными купцами она отправлялась за самыми удивительными тканями, она была Ледой, матерью Елены Прекрасной, и Святой Анной, матерью Марии, и все это происходило с ней, но сохранилось лишь как звучание лиры или флейты и отразилось в изысканном овале лица, в очертаниях век и положении рук».[4]
Соглашаясь с У. Патером, я склонен думать, что эта женщина даже старше, чем Леда или Св. Анна. Это первая из женщин — и первая из людей, вкусившая плод с древа познания добра и зла. В ней приобретает самопознание весь человеческий род, поддавшийся искушению змея. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт, 1:27). В лице Джоконды не так много специфически женского, оно могло бы принадлежать и мужчине, недаром некоторые исследователи считают, что моделью для «Джоконды» явился сам автор, т.е. картина — его автопортрет в женском одеянии. Искусствовед М. Герцфельд полагал, что в Моне Лизе Леонардо встретил самого себя, потому и смог так много внести своего в образ, черты которого издавна жили в его душе.[5] По мысли Д. Мережковского, это «существо, подобное призракам, – вызванное волей учителя, – оборотень, женский двойник самого Леонардо. /… / Леонардо и мона Лиза подобны двум зеркалам, которые, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности».[6]
Что же мы начинаем понимать, глядя на себя глазами Джоконды-Евы? — Что мы существа грешные, падшие, полные лжи и лукавства. Мы это знаем — и не должны скрывать друг от друга, потому что все мы принадлежим одному роду, происходящему от Евы. Это наша праматерь глядит на нас, своих потомков, и как бы передает нам улыбкой и выражением глаз тайну своего знания. [7]
Улыбка Джоконды вызывала множество толкований, в том числе и весьма причудливых. [8] Каково же теологическое и антропологическое значение этой улыбки? Это не светлое выражение радости или приветливости, это улыбка невольной податливости греху и вместе с тем сознание своей свободной воли, которая упрямо отстаивает право на грех. Рискуя увлечься чересчур вольными ассоциациями, могу предположить, что похожая улыбка играет на устах Ставрогина, когда он подсматривает за самоубийством соблазненной им Матреши и потом исповедует свой грех старцу Тихону. С такой же улыбкой героиня фильма Ларс фон Триера «Нимфомания», которую зовут Джо (нет ли здесь возможной отсылки?), предается неистовому блуду. Она улыбается снова и снова, прежде чем совершить очередное надругательство над собой, над природой любви. Эта улыбка говорит: «Вот какая я! Все мы! Мы понимаем, что поступаем дурно. Но нас уже не переделать». Это невинная, почти детская улыбка существа, которое способно понять грех в себе, но не одолеть его. Оно живет в полусвободе: у него есть свобода сознания, но нет свободы действия, и это расхождение и выражается улыбкой. Как известно, Христос не улыбался. Но и бесы тоже не улыбаются. А человеку, в его межбытии, только и остается, что понимающе улыбаться. В этом смысле улыбка Джоконды, отчасти вызывающая, отчасти извиняющаяся: «я ничего не могу поделать с собой» — есть всечеловеческий феномен. Это бодрость сознания при обмороке воли.
В улыбке Джоконды участвуют и глаза – удлиненные тенями и вторящие очертанию губ. Их выражение не столь определенное, нельзя сказать, что глаза улыбаются – но они знают, чему улыбаются губы, и делят это знание с нами. Они смотрят спокойно, созерцательно, но в них читается полувопрос-полупризнание: «Я догадываюсь, о чем знаете вы. Неужели вы не догадываетесь о том, что знаю я?» Отсюда смесь застенчивости и легкой насмешки в этом взгляде: понимание, что такое знание следует скрывать – и что скрыть его невозможно. В этом взгляде нет ни удивления, ни страха, но есть спокойное принятие неизбежного.
Человек — самосознающее существо, не способное управлять собой на самых глубоких уровнях своего бытия. То ли им играют гены, то ли химия и гормоны, то ли инстинкты или архетипы, но сократовское «познай самого себя» не переходит в сенековское «повелевать собой – величайшая власть». Это осознание выражается в улыбке, лукавой и беззащитной одновременно. В ней есть и приятие своей вины, своей слабости – и вместе с тем самолюбование, своего рода волевое утверждение своей невольности. Человек улыбается, чтобы признать свое бессилие и вместе с тем утвердить свое право на него.
3.
Удивительно, что на протяжении веков фигура змея оставалась не замеченной на самой знаменитой в мире картине. Обнаружил нечто похожее в декабре 2011 г. дизайнер Рон Пичирилло (Ron Piccirillo) из Нью-Йорка, который рассматривал картину под углом 45 градусов. Каких только спрятанных образов не нашел он в очертаниях скал: льва, и обезьяну, и буйвола, и крокодила – целый зоопарк. [9] Сколь-нибудь внятного объяснения своей находке Пичирилло так и не предложил, что придает ей статус курьеза.
Но если мы согласимся, что картина изображает Эдем, то образы животных окажутся вполне объяснимыми, — как и то, почему они остаются скрытыми, едва очерченными. Первозданный рай был полон животных – они присутствуют даже в сценах грехопадения, как, например, на картине Лукаса Кранаха Старшего «Адам и Ева» (1526). Змей, обвивший древо познания, наблюдает, как Ева передает плод Адаму, – а вокруг целый зверинец: лев, носорог, олень, конь, лань, овца, аист… Но у Леонардо эти животные скрылись, как бы ушли в скалы, окаменели в них, потому что сам Эдем закрылся для человека. Остается только торжествующий Змей, очертания которого очевидны и вездесущи. Фигура змея прочерчивается через всю картину, объединяя портрет и пейзаж.
Еще Д. Мережковский отмечал эту удивительную их перекличку, своеобразное двойничество. «Извилины потоков между скалами напоминали извилины губ ее с вечной улыбкой. И волны волос падали из-под прозрачно-темной дымки по тем же законам божественной механики, как волны воды».[10] Но вопрос: божественная ли это механика?
Внезапно мы понимаем, что за Джокондой-Евой открывается та невозделанная, пустынная земля, какой она стала после грехопадения человека: там нет ни единого дерева, ни единого плода, ничего из тех растений и животных, которые были созданы при сотворении мира и наполняли Эдем. Это каменистая почва, которую отныне человек обречен возделывать в поте лица своего. Это край труда и тоски — суровый, жесткий, безотрадный. Перед ним, как прародительница, открывшая человечеству извилистые тропы в мир страданий, предстает Ева, Джоконда, со всезнающей улыбкой на устах.
Такова метафизическая реальность, соотнесенная со всем сюжетом картины. Если в знаменитой античной скульптурной группе «Лаокоон и его сыновья» (200 г. до н.э.) пластика мужских тел формируется их смертельной борьбой со змеями, то в образе Джоконды змея плавно обвивает покорное ей женское тело, вплоть до лукавой усмешки нежно ужаленных и жалящих губ. Знаменательно, что одном из прозаических отрывков Леонардо упоминается аллегорическая фигура «Зависти». Она представлена как женщина, чье «сердце делается изгрызенным распухшей змеей».[11] Никаких других признаков зависти образ Джоконды не обнаруживает, но знаменательно, что Леонардо мыслит образ женщины в единстве с образом змеи, грызущей ее сердце. [12]
На демонический подтекст этого образа указывали многие исследователи, но в импрессионистическом ключе, не связывая его с изобразительным лейтмотивом картины – фигурой змея. «Что приковывало зрителя, это именно демонические чары этой улыбки. Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не разгадал ее улыбки, никто не прочел ее мыслей. Все, даже ландшафт, загадочно, как сон, как будто все дрожит в знойной чувственности» (Gruyer).[13]
Еще более резко и даже обличительно отзывается о леонардовой «бесовщине» антиренессансно настроенный философ А. Ф. Лосев, о героини. «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой кроме слабости она рассчитывает ещё на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством».[14]
Вернемся к началу, к первому впечатлению. Величавая женщина, стройная осанка, мирная природа вокруг… Если бы грехопадение было представлено как драматическая сцена, полная движения, соблазна, потрясения, то картина достигала бы совершенно другого эффекта, более близкого «Адаму и Еве» А. Дюрера, «Грехопадению» Рафаэля или соответствующей сцене на фреске свода Сикстинской капеллы работы Микеланджело. Но Леонардо обращается не прямо к библейской сцене первородного греха, а к его вневременности, спокойному, уже привычному врастанию в обыденность человеческого бытия. «Змеиное» вошло в душу и плоть этой женщины и лишилось своего жуткого, тревожного мифологического облика; теперь оно вполне обмирщенное, по-своему грациозное. Оно обвивает женщину петлями неведомо куда ведущей дороги, выступает обаятельной улыбкой на ее устах. Это не ветхозаветная Ева в неведомом нам Эдеме; это сокровенное знание, ставшее близким и понятным каждому из нас. И достаточно по-особому растянутых женственных губ, чтобы напомнить о том, кто мы и что таит в себе эта улыбка. Мистерия грехопадения вписалась у Леонардо в светский сюжет, в портрет флорентийки.
Силу воздействия картины можно объяснить именно тем, что ее внешняя фабула: прелестная, нарядная, улыбающаяся дама на фоне декоративного пейзажа — вступает в противоречие с ее внутренним сюжетом прельщения, греха, всезнающей улыбки и змеиного лукавства. Ф. Шиллер так истолковывал природу эстетического воздействия: «Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе…» [15] В данном случае содержание — светское, светлое, почти идиллическое, тогда как форма, восходящая к библейским архетипам, — глубоко трагическая.
Следуя Ф. Шиллеру, Л. С. Выготский в своей «Психологии искусства» сформулировал закон всякого искусства, которое вызывает два ряда противоположных эмоций у зрителя — и тем самым достигает их разрядки, катарсиса, духовного очищения. «…Всякое произведение искусства таит внутренний разлад между содержанием и формой и… именно формой достигает художник того эффекта, что содержание уничтожается, как бы погашается». [16] Вряд ли нам дано ответить на вопрос, в какой мере сознательно Леонардо вложил библейский смысл в свою картину, но он подсознательно воспринимается зрителем. Поэтому портрет Джоконды-Евы держит нас в поле своего двойного эмоционального воздействия, побуждая искать источник таинственного знания добра и зла в самих себе.
Примечания
[1] Д. Мережковский. Воскресшие Боги, кн.14 («Мона Лиза») https://lib.rus.ec/b/173141/read#t14
[2] Эфрос. А. Леонардо — художник, в кн. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М.-Л. Академия, 1935 https://vinci.ru/ef_03.html
[3] Вячеслав Шевченко. Прощальная перспектива. М., Канон, 2013, 222.
[4] https://www.vparis.net/luvr-parizh/kartina-mona-liza-dzhokonda-muzeya-luvr.html
[5] Приводится по работе З. Фрейда «Леонардо да Винчи: воспоминание детства». https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/leon_vin.php
[6] Д. Мережковский, цит. соч.
[7] Очень точно писал об этом Вячеслав Шевченко: «….она видит вас, и вам трудно избавиться от ощущения, что вас она видит ‘насквозь’, читая ваши мысли. Это стеснительное чувство стеклянности вызывает понятный протест, от вашего имени уже оформленный наиболее запальчивыми искусствоведами. Мало того, что она вас видит – о всех вещах она знает больше, чем знаете вы.» Цит. соч., С. 221.
[8] Скажем, дантисты объясняют таинственную улыбку Моны Лизы тем, что она старается прикрыть отсутствие передних зубов. Терапевты обнаруживают липому и паралич лицевого нерва. Исследование с точки зрения квантовой физики, проведенное в Белграде, находит в этой улыбке «суперпозицию» – смесь веселости и печали. А специалисты из Университета Амстердама полагают, что улыбка Моны Лизы выражает сложную гамму чувств: 83% радости, 9% отвращения, 6% страха и 2% гнева. https://www.neatorama.com/2010/12/28/mona-lisa-all-things-to-some-researchers
[9] https://news.day.az/unusual/302895.html
[10] Д. Мережковский. Воскресшие Боги, кн.14 («Мона Лиза») https://lib.rus.ec/b/173141/read#t14
[11] О композиции. https://www.leonardodavinchi.ru/kompozicija2/
[12] Кстати, само имя Джоконды, возможно, имеет не только биографическую, но и лингвистическую подоплеку. Картина считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо, La Gioconda. По созвучию вспоминается название самой крупной змеи — анаконды. Это слово происходит, скорее всего, от латинского anacandaia. Перекличка «оcondа» – «аcandа» могла послужить дополнительной мотивацией для введения змеиных очертаний в облик Джоконды и в ее антураж.
[13] Приводится по работе З. Фрейда «Леонардо да Винчи: воспоминание детства». https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/leon_vin.php
[14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%ED%E0_%CB%E8%E7%E0#cite_note-refname9-16
[15] Шиллер Ф. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1957, С. 326.
[16] Л. С. Выготский. Психология искусства, 3-е изд. М., Искусство, 1986, С. 271. https://teatr-lib.ru/Library/Vygotsky/Psychology_art/#_Toc216201384